ВОДА ЖИЗНИ
-I-
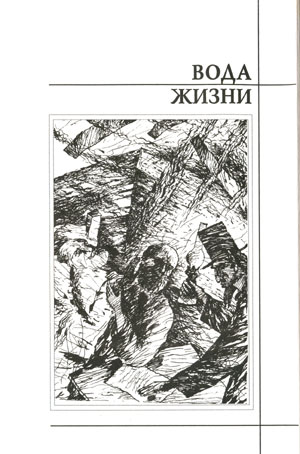 После Шуркиного отъезда дед напряженно прислушивался к удаляющемуся стуку копыт. Чем отдаленней он слышался, тем более усилий требовалось. Вот уже, кажется, вся его жизнь, заключенная в теле, стянулась в одну точку, в один тугой клубок, связывающийся с равномерным стуком невидимой напряженной нитью.
После Шуркиного отъезда дед напряженно прислушивался к удаляющемуся стуку копыт. Чем отдаленней он слышался, тем более усилий требовалось. Вот уже, кажется, вся его жизнь, заключенная в теле, стянулась в одну точку, в один тугой клубок, связывающийся с равномерным стуком невидимой напряженной нитью.
Вот выехал за остов заброшенной водокачки, вот пересек кювет на обочине шоссе, вот легкой рысью взял по тропинке вдоль огородов. Бег у мерина какой-то с перестуком, с отставанием, словно бы дед вначале глазами видит, как копыта касаются натоптанной тропинки, а уже потом доносится стук. И чем дальше отдалялся Шурка, тем больше тело деда утончалось, уходило в разматываемую нить.
Вот уже, кажется, ничего не осталось, весь превратился в слух. А прикосновение и доносящийся стук — всё с большим разрывом. По второму, по третьему разу бьют копыта, а звука всё нет, отстает.
И вот мнится деду, что в этом отставании, в этом промежутке успевает неслышно скакать иной всадник, который скачет в противоположном Шурке направлении и с каждым разом все ближе и ближе подвигается к деду. Да он только потому и подвигается, что есть этот разрыв — мертвое, ничем не обозначенное пространство. Встреча со всадником почему-то страшит — ни звука, холодный шелест набегающего ветра. Откуда он, зачем? Дед как будто догадывается, что отдаленный, едва угадываемый запоздалый стук копыт — это только воображение, а на самом деле это стук его утомленного, останавливающегося сердца. И холодный набегающий ветер — вовсе не ветер и уж тем более не безмолвный всадник, это шелест остывающей крови.
Дед усилием воли приподнял веки, вперился в темный квадрат окна, выходящего на дорогу, и вдруг улыбнулся — обмяк. Ни чувств, ни мыслей — слился с периной, подушками и одеялом, точно неодушевленный предмет. Ни дыхания, ни сердцебиения — утратился.
А между тем шелест набегающего ветра усилился. Напротив окна, выходящего на дорогу, взметая обрывки бумаг и прошлогоднюю листву, закручиваясь, будто в тугую пряжу, остановился вихрь. Внезапно со звоном распахнулось окно, и стреловидная вспышка молнии, вдруг ударившая снизу вверх, на мгновение остановила время.
Собственно молния была не совсем молнией, она была черной и походила на трещину в фарфоре. И сопровождалась не громом рушащегося объемного пространства, а стреловидно прокалывающим звуком лопнувшего стекла или оборванной струны. Она была настолько черной, что предметы вокруг как-то сами собой внутренне осветились, а на месте опадающего мусора, словно какой-то остаточный сгусток странной молнии, выткался черный всадник. Он сливался с конем, точно вырезанный из цельною картона силуэт. Во всяком случае, он слетел с седла, словно тень, оторвавшаяся от общего куска материи. Человек был мал, очень мал, — что-то в нем было искусственное, точно явился он из колбы, подобно гомункулусу.
Вороной конь попятился и, погрузившись в плетень, слился с ним, пропал. Черный человечек точно таким же образом, словно дым, прошел сквозь плетень и с той стороны, у раскрытого окна, вышел. Из плетня вынырнула ощерившаяся в ухмылке лошадиная морда, но тут же, получив щелчок по носу, вновь пропала. Плетень как-то неестественно выгнулся в сторону дороги — вот-вот завалится, даже калитка покосилась. Человечек, словно рассерженный кот, угрожающе зашипел, изгородь, будто четвероногая, переступая с ноги на ногу, подвинулась на место — выровняла калитку.
Человечек ловко запрыгнул на завалинку, заглянул в окно и, увидев сидьмя лежащего на подушках деда, вбросил в горницу что-то наподобие мелкой монеты. Послышались характерный звон и шипение, но не такое, каким он вот только что одарил своего коня. Это было шипение сгорающего пороха или спичечных серных головок, спрессованных в специальную таблетку. Во всяком случае, из окна потянуло жженой серой, и тьма в избе словно набрякла. Человечек стал оседать и, теряя очертания, окутываться плотным черным паром, который, клубясь, потек в горницу, как бы втягиваемый сквозняком. Потом все исчезло, только завалинка в том месте, где стоял человечек, ни с того ни с сего вдруг просела, будто под нею находилась болотная топь.
-II-
Однажды, беседуя с районным лектором (прочитал доклад «О мифах и суевериях»), дед Доброть попросил оного научно обосновать факт, то есть дать факту, как выразился дед, научную подоплёку. Суть заключалась в том, что на сопочке близ Хмельного озера, как раз под той развесистой ивой, под которой Шурка расседлал Волчка, деду сделалось видение — две стельных коровы тонули в трясине. Не будь дурак, он поскакал на лошади и успел, отвернул беду, вызволил буренок, уже осевших по брюхо.
Лектор в отличие от мужиков, тут же сгрудившихся возле трибуны, не только за ухом не почесал, а напротив, двумя пальчиками весело постучал себя по жилетке.
— Болото, вредные испарения и, как результат, галлюцинации.
Потом еще минут пятнадцать объяснял, при каких обстоятельствах случаются галлюцинации, так что выходило, что дед не совсем психически здоров и ему не мешало бы провериться.
Дед ничего не сказал в ответ, а в душе возмутился, и не лекторской подковырке (каким бы он, дед, ни был, а коров вызволил), возмутился тому, что по представлениям этого человечка в жилетке можно творить добро, вовсе не сознавая, — что творишь?
«Неверно, никак неверно, только зло можно творить не ведая, а добро по всем статьям выше зла, добро требует вдумчивой сознательности, — рассуждал дед. — За добром — Бог».
Не сразу он пришел к Нему, но теперь представлял Его некоей высшей справедливостью, которая воздается человеку по его делам и помыслам — своим приближением или удалением.
Когда все, что ни измыслит и ни сотворит человек, чудесно продлевается, чтобы и детям детей так же творилось и помышлялось о чудесном продлении всего что ни есть вокруг, — это уже Бог. Это уже радость — Бог с нами и даже в нас самих!
И совсем другое: что ни сотворит, ни измыслит человек — нет Бога, удалился или вовсе никогда его не было? Так что уже человек помышляет: он сам есть Бог. Но никакой высшей справедливости от такою помысла не происходит — наоборот, одна неисчислимая несправедливость. Потому что всё, сотворенное человеком, продлевается как-то в отдельности от него, являя лишь его ничтожество. Стоит человек махоньким человечком перед гигантским комбайном, который вполне способен его поглотить и поглощает, а он только механически крутит туда-сюда головкой — нет Бога, нет никакой Высшей Справедливости. Тогда-то и возникают мировые войны, мор, язвы и всякие запустения, что уж и вовсе как бы подтверждает: нет в мире Справедливости, нет и не было. Но она есть, мы сами удалились от нее в своей гордыне. Впрочем, это еще и оттого происходит, что не всякое понятие по человеку. Иной раз вроде и разумеет он — что есть истина? — а предпочтение отдает видимости, потому что не созрел сердцем, не постиг, что невидимый мир более всеобъемлющ.
* * *
Расставшись с Шуркой и впав в беспамятство, дед Доброть не сразу открыл глаза. Он чувствовал, что кто-то сидит рядом. (Запах жженой серы и креозота — или ему блазнится?!)
Тело его, будто лодка на быстрой журчащей воде, покачнулось и, отодвигаясь, стало отставать от него, как нечто отдельное, хотя и дорогое, но уже неподвластное. Теперь он видел снижающиеся небесные поля, зеркальные озера с выплывающим розовым солнцем и вдали, на холме, белокаменную церковь с маковками голубых куполов. Еще он увидел: стадо овец, тропинку, бегущего по ней мальчика с хворостиной. Мальчик знаком деду, дед чувствует небъяснимое волнение и вдруг догадывается: это он сам бежит. Сейчас начнется Заутреня. И точно — праздничный звон колоколов плывет в воздухе и как будто бы сам становится воздухом. Мальчика окликают, даже не окликают, а взывают о помощи. Он оглядывается — Шурка скачет по накатанной полевой дороге. Вот придержал Волчка, свернул на рыбацкую тропинку к озеру, неестественно дернулся в седле — из-под копыт Волчка вырвался черный закручивающийся вихрь. Растягиваясь и вырастая, вначале заслонил Волчка с Шуркой, потом дотянулся до облака, и вот уже ясно, что он втягивает в себя поля, рощи, тропинку, которые лопаются и обрушиваются градом осколков, словно разбитое стекло. В последний миг, когда мальчик, потеряв равновесие, стал падать, он увидел белую светящуюся точку. С каждой секундой она увеличивалась, обретала форму и в момент, когда все разрозненное вдруг соединилось и мальчик понял, что этот бездыханный старик есть он сам — дед, тяжело, болезненно вздохнув, очнулся. Очнулся, но глаз не открыл, все еще находился во власти видений.
— Ну что вы, право? Откуда такая необоримая боязнь креозота и жженой серы? Видит Бог, по мне что-нибудь одно. — Почувствовалась усмешка. — Однако мы все должны считаться с местными условиями.
Голос был сильным, быстрым и каким-то услужливо бесцеремонным. И еще, все сказанное проговорилось деду как будто сразу с обеих сторон, в оба уха. К тому же и внутри как-то само собой все сказалось или отозвалось, в общем, закралось сомнение — в самом деле он что-то слышал? Или давешний районный лектор прав — ему мерещатся всякие галлюцинации.
Послышался смех. И опять, точно отдельно живой, смех впрыгнул прямо в уши с обеих сторон, и кто-то вслед, словно опасаясь, что смех выпадет, не дойдет до сознания деда, весело побарабанил по ушам, как некогда лектор по жилетке — запечатал.
В груди деда забулькало, запрыгало, и он ни с того ни с сего сам, помимо своей воли, засмеялся. Дед почувствовал, как и без того окоченевшее нутро схватилось будто лед, окменело, а вставший на голове волос зашуршал, словно осыпающийся иней.
— Хе-хе-хе, видит Бог, — и опять проскользнуло что-то глумливо насмешливое, — вправду сказать, Бог видит вас несмышлёнышем, вбегающим в райские чертоги. Но ничего-ничего, мы сейчас зажжем какой-нибудь светильник, и пусть смотрит на нас, какие мы есть. А мы есть, как справедливо полагает ваш внук Шурка, должно быть, что-то чрезвычайное, сотворенное с надеждой на продление. Именно на продление. Это были его последние, но верные слова. Знаю-знаю, что вы их разделяете. Да ведь и я не против, чтобы мы все продлевались друг в друге.
Внезапное напоминание о внуке как бы пробило корку льда. Капля к капле жизнь стала возвращаться к деду. По телу побежали живительные токи, сознание вернулось, но всё еще не было сил ухватиться за что-нибудь конкретное. И вдруг — берег, Шурка, внук! Умирать нельзя! А этот лектор, зачем он здесь?!
Дед застонал, но и на этот раз не сразу открыл глаза, прислушался. Вначале он услышал шипение, похожее на шкварчание брызжущего жиром сала, поджариваемого на сковородке. Потом почувствовал икрами ног и всей ступней жесткие, как бы растирающие или втирающие мазь чьи-то ледяные руки. Дед, словно в лихорадке, застучал зубами, но в ту же минуту на холодный ледяной массаж тело отозвалось приятным внутренним теплом, он явственно ощутил, как по всему телу разлилась живительная легкость. Дед приоткрыл глаза и вновь боязливо сомкнул.
У его ног суетился человечек в черном костюме, тройке. Расстегнутые полы костюма свисали, будто черные подрезанные крылья, а на тугом застегнутом жилете болталась на цепочке то ли раскрытая ладанка, то ли медальон, по величине и форме похожий на старинные карманные часы в глухом футляре. Человечек, кажется, перочинным ножичком тщательно соскребал со ступней что-то наподобие белого инистого налета. (Такой налет случается на железных предметах, когда с мороза их вносят в тепло. Только этот сахаристый налет на ножичке не тускнел и не таял, а изнутри усиленно светился, будто наполненный электричеством.) Человечек осторожно и ловко, словно парикмахер, смахивал его как бы с бритвы как раз в этот медальон или ладанку, болтающуюся у него на груди.
Дед, досадуя на себя, — чего испугался, — опять приоткрыл глаза. Точно — счищает и всякий раз прихлопывает вещество, будто притаптывает. А вещество от соприкосновения с ладанкой настолько лучисто, что все предметы вокруг не то что залиты — залеплены светом. И только огромная тень за спиной этого верткого человечка, которого он за неуловимость суждений принял за районного лектора, шевелясь, как бы клубилась такой непроницаемой тьмой, что в трех шагах казалась зияющим черным провалом. Впрочем, в какое-то мгновение дед точно почувствовал, что тень — вовсе не тень, а сама бездна. Мелькнули мерцающие зеленые огоньки... Мелькнули и тут же пропали, заслоненные человечком, полы костюма которого в ослепляюще чистом свечении вещества то комкались, сжимаясь, то удлинялись, растягиваясь в какие-то черные пульсирующие всполохи. Присмотревшись, дед понял, что темнота вокруг как раз потому и непроглядна, что соседствует с лучистым веществом. Его неприятно поразила вертлявость человечка, его внешний вид. (Сейчас он соскабливал белый налет с подошв деда и, дергаясь, взвизгивал, словно не он деду, а дед ему щекотал пятки.) Вот-вот — лектор!..
Котелок разухабисто сдвинут на затылок — из-под него жесткие черные кудри, косматясь, сбегают на низкий скошенный лоб. Густые кустистые брови — взгляд из-под них, как из-под козырька. Крупный с горбинкой нос. Отчетливо очерченный рот с тонкими, почти отсутствующими губами. Сухой, с загибом вперед, точно рог месяца, подбородок. Все это, собранное вместе, почему-то казалось разрозненным, отдельно существующим, словно было позаимствовано у разных людей. Всякая черта лица, сама по себе убедительная, в сочетании с другой не смотрелась, более того, не стыковалась, что ли? Во всей фигуре ощущалась слепленность, каждая стать не дополняла другую, а была как бы во взаимной вражде, стараясь оттяпать чужое. При взгляде на пузырьки бегающих глаз и суетливые телодвижения человечка невольно являлась мысль, что стоит ему внезапно оступиться — и он тотчас рассыплется на непредсказуемые кусочки или превратится в пар. С первой же секунды вселялась уверенность, что он непременно делает одно, говорит другое, а подразумевает третье.
Районный лектор (сущий лектор), — подумал дед и на всякий случай приготовился к тому, что человечек не утерпит, надсмеется на ним, не упустит, так сказать, возможности побарабанить пальчиками по жилетке.
— Ну-ну, полноте, что за беспокойство, какой я лектор? Ужель только потому, что у нас одинаковые жилетки? Ничего подобного, массовый завоз ширпотреба, только и всего.
Он картинно, будто на сцене, замер и, подняв котелок и шаркнув ножкой, объявил:
— Моё имя принц но-Ир, что означает — черный или даже мрачный князь.
Такое вот несоответствие — на самом деле он весельчак и, как большинство французов, не лишен тщеславия, поэтому его иногда величают д'принц — достославный князь! Впрочем, чтобы некоторые не сочли его тщеславие чрезмерным, он просит писать свое имя в конце предложения и с маленькой буквы. Но, собственно, имя обязательно разбивать на две части этакой черточкой, дефиском, и уж самую последнюю частицу «Ир» писать непременно с большой буквы. Да-да — своеобразная компенсация... Кроме того, в этом есть определенный намек, что он не совсем француз, просто всё человеческое ему не чуждо. Ведь он — пришелец, или, как ныне говорят, инопланетянин — хе-хе!.
Скрутившись едва ли не штопором и тут же раскрутившись, гомункулус в последний раз скребанул по левой подошве, смахнул вещество в ладанку, притоптал и, щелкнув крышечкой, запечатал.
— Уфф, успел!..
Впрочем, он не против, чтобы его называли лектором.
Шумно отдуваясь, сунул ладанку под жилетку, утопил. И сразу тьма вокруг сомкнулась, только сквозь жилетку, словно свет электрическою фонарика, просвечивал металлический белый кружок. Сверху и чуть искоса глянув на него, человечек пробежал пальцами по пуговицам, словно по клавишам баяна, — наглухо застегнулся. Теперь кружок исчез, а костюм обтягивал гомункулуса точно резиновый.
Деду было неприятно появление черного человечка. Его скрипучий, точно несмазанные двери, голос. Его резкие и в то же время резиново-растягивающиеся движения. Дед пальцами заткнул уши и закрыл глаза, но нет — голос помимо его воли, булькая, выскабливался в груди, а сквозь сомкнутые веки отчетливо виделось, как этот человечек потянулся к столу, пригашенной керосиновой лампе, тело, смешавшись с тенью, вытянулось, а потом, словно отпрянув от увеличившегося язычка пламени, скомкалось, угнездилось на стуле. Однако — к делу. Он почему здесь?
Воздушные пузырьки глаз человечка как-то забегали, замельтешили, как бы облепливая деда со всех сторон.
— Во-первых, потому что вы, дедушка, находитесь в состоянии клинической смерти. Да-да, смерти! Ну вот, вам не нравится моя речь, сплошное наукообразие! А ведь именно вы хотели меня называть лектором — извольте?!
Человечек вскочил, приподнял котелок, который теперь более походил на цилиндр: извините, извините — он не хотел.
Опять оседлал стул. Именно оседлал, каблуками полусапожек уперся в поперечины, точно в стремена. Дед обратил внимание, что полусапожки в самом деле точь-в-точь похожи на те, в каких расхаживал возле трибуны районный лектор. Наверное, и впрямь массовый завоз, — мысленно согласился дед с доводами человечка, а тот, словно подслушав его согласие, вновь вскочил и вновь, извинившись, поблагодарил деда.
— Во-вторых, я потому здесь, что вы, дедушка Доброть, — положительный народный ум, к которому, кстати сказать, стремится любой уважающий себя разум. Ведь Шурка — стервец эдакий!.. Это я — в смысле восхищения. Да-да, стервец, додумался до того, что если, дескать, родится человек, который всё видит, всё разумеет и, чему ни захочет, сейчас же выучится, то такой человек первым же вопросом себя и срубит. Мол, зачем он такой один, когда люди вокруг, всё, что он видит, не видят и не резумеют? А-а, каков?! Сам себя срубит!.. Я просто вынужден был покинуть вашего внука. И тут уж, пожалуй, надо говорить: в-третьих, да-да, в-третьих.
Человечек подпрыгнул, будто сидел на шиле, и, наклонившись к деду, заговорил шепотом о какой-то энергии духа, без которой любой космический разум — не разум, а так — игра воображения. Но и дух без разума — сущая безделица, такое простенькое растеньице, с которого не сорвешь даже цветка. Вот он и предлагает Еремею Тимофеевичу не то чтобы сделку, нет, а в некотором роде обмен. Это его Шурка надоумил.
— Да-да — он. Грит: вы уж не дайте дедушке помереть, а уж он, то есть вы, Еремей Тимофеевич, не постоите, из любви к внукам не откажете мне в вашей последней секундочке, ну той, в которую вы прямиком вознесетесь в рай. Ведь эта ваша секундочка — она вот здесь.
Человечек красноречиво прижал обе руки к груди.
— В моем медальоне, смею вас заверить, светоносном, как раннее утро. Да и на что она вам — Божественный рай, бессмертие души, а как же внуки? К тому же Шурка, хотя душой и ничего, а разумом чреват, да-да, чреват. Добьете вы его, Еремей Тимофеевич, бессмертием своей души. А я уж за вашу секундочку не поскуплюсь, вечную жизнь и рай на земле устрою. Да-да, самый настоящий рай — коммунизм. Вы ведь мечтали о коммунизме?! Захотите парного молочка с лепешечками — пожалуйста! Поспать — перинку взобью! И здоровьице — на все времена, как у юноши! И все это за какую-то секундочку, сущую безделицу. И золотишко у вас не будет переводиться, у всех бумажки — инфляция, а у вас самый настоящий золотой рубль. Соглашайтесь, Еремей Тимофеевич! Ведь эта секундочка для вас тем и замечательна, что только по вашему согласию ее можно обменить. Дух в ней должен быть, ваш дух, так сказать, народный, живительный!
Дед не особо вникал в просьбу, да, пожалуй что, он вообще не вникал в нее, остановившись мыслью и как будто даже застыв на том, что перед ним какой-то принц но-Ир. То есть он пытался вникнуть, но слова сыпались, как горох, и он, уловив, что это не слова даже, а всё словечки и всё как у лектора, опять откатывался на исходную — принц но-Ир?! Князь, да еще черный — это что же, перед ним само исчадие ада?
Дед молитвенно сложил руки: «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли...»
Красный язычок керосиновой лампы затрепыхался, смешал тени предметов и всю обстановку вокруг, горница наполнилась голубым утренним воздухом, в котором черный человечек, как это бывает во сне, стал выцветать, таять и, наконец исчез.
Дед проснулся, когда уже смеркалось, но он решил, что на улице еще только развидняется (спал недолго — закрыл глаза и открыл), вот-вот взойдет солнце. Потом сообразил, что заря полыхает в окне, выходящем на дорогу, — стало быть, солнце не всходит, а зашло. Долго же он спал!
Дед осторожно, боясь пробудить застарелую боль, потянулся, однако суставы хрустнули так громко, словно сломались. Он вздрогнул, пугливо прислушался, — во всем теле необычная легкость и никакой боли. Дед некоторое время выждал — снилось ли что? Кажется, снилось, но что именно — заспал. Он огорчился, в последнее время сны были для него не только досугом, но и прямым участвованием в повседневной жизни.
Дед привстал, дивясь легкости, с какою поправил подушки. Может, попробовать встать? Он приподнял голову — где его верхняя одежда? Раньше, до того как слег, клал на табуретку. Он посмотрел на лавку и обмер, ему показалось, что с другого края стола кто-то сидит — облокотился на столешницу.
Дед обознался, край клеенки, низко спущенный под стол, он принял за черную вытянутую полу костюма. В том, что обознался, ничего предосудительного не было, но почему или, точнее, кого он испугался? Что-то такое было с ним — сердце помнит, а память отшибло.
Преодолевая дрожь, дед опасливо приподнялся на руках. На столе стоял пасхальный кулич, сверху прикрытый сложенным полотенцем. Он почувствовал, как страх отхлынул, — слава тебе Господи! — кулич! Должно быть, Полина Макарова принесла, мать механизатора Василия, благодаря которому еще держится, живет их Шубенка. Что ни говори, а привезти дров, сена, вспахать огороды — всё Василий. Вот уже третий год благодаря ему живет Шубенка — откорм молодняка...
Мысли деда перескочили — Шурка что-то припозднился. Должно быть, завернул на Синюю гриву присмотреть пастбища с учетом откормочного скота. Дельный мужик Василий, пожалуй, гурт, голов на двести, они бы здесь подростили, да вот незадача: его, деда, теперь в расчет брать нельзя — износился.
Он подумал о себе, как о дополнительной обузе на шее Шурки, и вдруг увидел на другом конце стола керосиновую лампу на высокой фигурной подставке. Даже в полусумраке было видно, что стекло лампы со стороны окна густо закопчено и лопнуто. Причем не изнутри закопчено, а снаружи, так, если бы дневной оконный свет не освещал, а упал на него застывшей черной тенью.
Дед осторожно опустился на подушки — он всё вспомнил. Вспомнил так явственно и отчетливо, что засомневался — точно ли это был сон? Вот откуда страх! Он беседовал с черным человеком, который, хотя и называл себя пришельцем, инопланетянином, по всей вероятности, действительно черный князь, попросту говоря — дьявол, бес!.. Просил не отказать в последней секундочке, в которую он, Еремей Тимофеевич, вознесется прямиком в рай. Утверждал, что эта секундочка у него в медальоне. Чепуха какая-то! Однако если он, дед, здесь, то, стало быть, уж конечно не в раю. Это что же?!
Он почувствовал такую тягостность, такую сосущую тоску под сердцем, будто вот только что согрешил и как-то так не по возрасту неприлично, что осрамил не только свои седины, но и будущие седины внуков. Деду захотелось умереть. Он представил себя в гробу обмытым, в новой просторной рубахе, шароварах, и до того ему уютно стало, что он сложил руки на груди, как покойник, и закрыл глаза.
И вот, как только закрыл, тотчас ему вновь почудилось, что за столом кто-то сидит. То есть он уже точно знал, что за столом сидит не кто иной, как он сам. А через стол, напротив, поминутно ерзая на стуле, сидит черный человечек, именующий себя достославным князем с маленькой буквы. Конечно, не человечек и тем более не человек — принц но-Ир через черточку.
Дед вознамерился хмыкнуть над всем, что ему чудится, и тем самым покончить с необъяснимой тягостностью, но он услышал знакомый, почему-то выскабливающийся в его груди смех.
— Хе-хе-хе, Еремей Тимофеевич, хе-хе-хе! Думаю, мы с вами договоримся. Это я помогаю вам смеяться — я, но-Ир. Оно очень смешно наблюдать, как вы маетесь, пугаясь своего счастья, которое стечением самых невероятных обстоятельств вдруг привалило к вам Ведь вы, право, готовы умереть, или, как там по-вашему, переместиться в рай вовсе не потому, что вам земля надоела. Вы уверены, что такое решение — есть добро. А остаться здесь, получив жизнь вечную, да при внуках, да при здоровьишке — это сплошная гнусность, зло. Ну почему, Еремей Тимофеевич, почему?!
Он опять делано засмеялся — какие-то скоблящие звуки гвоздя о стекло. Дед почти физически почувствовал, как его смех переворачивает ему нутро — нет, это не человек, это само исчадие — дьявол!
Но-Ир вдруг перестал смеяться.
— Не буду, не буду... Может быть, вы, Еремей Тимофеевич, сомневаетесь? Дескать, этот достославный князь наобещает с три короба, так сказать, коммунистическое изобилие, а придет время рассчитываться — никакого коммунизма, никакого изобилия. Мол, такое на вашем веку уже бывало — обещали! Смею заверить вас, что я для того и явился к вам, чтобы оформить договорчик, чтобы никаких сомнений, чтобы всё было честь по чести, с гербовой печатью, с расписочкой и так далее, как вы пожелаете. Главное — пожелайте?!
«Ну вот, уже и до договорчика дело дошло, — с безнадежностью подумал дед. — И стелит, как стелит, называет по имени-отчеству, будто лет двадцать тому...»
Человечек тут же привскочил на стуле, поправил:
— Не двадцать, а все двадцать пять. Да-да, именно двадцать пять. Ни больше и ни меньше.
У него на этот счет весьма прелюбопытнейшие выкладочки имеются, с точностью до миллионной доли секунды. А как же, тут подсчет жизни и смерти, тут иначе нельзя, тут уникальный случай. Раз двадцать пять — один внук, два — второй, близнецы, никуда не денешься, в общей сложности — пятьдесят годиков. Удивительная цифирка, скажем прямо — гипнотическая, кажется, с нее начался всем известный дедушка Доброть?!
Сидя и без тою как иголках, черный человечек подскочил к лампе, подкрутил потрескивающий фитиль. Пламя затрепетало, заплясало, но что удивило Еремея Тимофеевича — всё оставалось недвижимым, теней ни у так называемого принца но-Ира, ни у предметов не было. Темно-багровый свет словно бы обволакивал всё со всех сторон, однако его только и хватало, чтобы освещать собеседников, дальше стола он не распространялся.
— А в какую цену оценивается апрельская вьюга, да с внезапным морозцем?! А простой ржаной сухарик?!
Человечек замер, многозначительно посмотрел в сторону кровати и как-то сразу выпал из поля зрения деда.
Дед почувствовал, что утратил точку опоры или отсчета, не может понять — где он, на кровати или за столом? Ощущения смешивались, он как будто чувствовал себя и там и тут одновременно. И в то же время танцующее пламя лампы словно нарочно истязало его, то возвращало за стол, то вновь отбрасывало на постель. Если он за столом, то кто там лежит? Ровно, безучастно, словно через их головы прислушивается к какой-то беседе более значительной, чем у них. И руки на груди, как у покойника.
Деду видны только руки, и чем пристальней он смотрит на них, тем, кажется, они крепче сжимаются и как-то, непонятно как, но сжимают его сердце.
— Да-да, известный дедушка Доброть, так сказать, Еремей Тимофеевич собственной персоной.
Внезапно вмешавшись в мысли и чувства, черный человечек представил Еремею Тимофеевичу его самого, то есть Еремея Тимофеевича, и тут же пояснил:
— Это только на миру дедушке семьдесят пять, а на самом деле всего двадцать пять. Оттого-то и необычная легкость во всем теле, и никакой боли. И взгляните на фотографии, он, дедушка Доброть, один в один сличает с внуками. Так и кажется, что это кто-нибудь из них расположился на кровати.
Верткий человечек, движения которого теперь всё более и более копировали пляску огня, ловко подхватил лампу, шагнул к фотографиям, прилепленным к стене над кроватью.
- Кстати, чтоб уж совсем пресечь всякие сомнения предлагаю вам в некотором роде — нулевой вариант. Поживите, Еремей Тимофеевич, вспять, маленько приспособьтесь к вечности. Примите, так сказать, маленький авансик в счет будущего договорчика. О, это очень забавно — через двадцать пять годиков вы уравняетесь с внуками, а дальше, входя в молодость, вы по пути исправите все свои ошибки. Согласитесь, не часто представляется возможность — исправить ошибки молодости. А потом, жить вспять довольно удобно. Каждый волосок на вашей голове посчитан, все известно, все предрешено, только-то и надо — в нужное время быть в нужном месте. Многие именно так и живут и не жалуются на повторяемость жизни. Более того, дорожат, гордятся повторяемостью, потому что ничто нас так не роднит, как схожесть. Ах, как это замечательно с каждым годом молодеть и молодеть! Вы возвращаетесь назад по пахоте жизни и всю свою энергию употребляете не на поиск ориентиров (они вам известны), а на глубину пахоты. Иная сила жизни, и никакой повторяемости. Нет-нет, Еремей Тимофеевич, у вас в руках верная карта и масть что надо! Сличать с внуками — это же великолепно! И всё это за какую-то секундочку! Взамен, так сказать, смерти по-вашему вам даруется бессмертие по-нашему. Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз!
В такт приплясыванию но-Ир стал повизгивать от удовольствия, словно сделка уже состоялась.
Деда покоробило, что этот черный человечек в высокой сверху будто срезанной шляпе дважды не сказал даже, а указал, что он, дед, сличает с внуками, а не внуки — с ним, что было бы вполне естественно. Это верткое существо всё делало наоборот, шиворот-навыворот. И притом с такой искусностью, что невольно вызывало чувство отвращения.
В дни далекой молодости Еремею Тимофеевичу встретился беспризорник, который зарабатывал на хлеб тем, что вставлял в нос папиросу, затягивался, а дым выпускал через уши. Глядючи на него, Еремея Тимофеевича стошнило. Он отдал беспризорнику последние деньги и попросил его больше никогда не проделывать подобных фокусов, не насиловать своего природного естества. А здесь этот Нырок, или как там его?...— почти ежеминутно поедал перед ним свои испражнения и с таким наслаждением — прямо-таки в удовольствие.
Вот и сейчас через голову поднес лампу к фотографиям, а сам вынул ладанку, вглядывается в лицо лежащего на кровати.
Дед привстал с лавки, чтобы тоже получше разглядеть, и видит, что и лежащий приподнялся. Глаза закрыты, но мягкий дневной свет, исходящий от ладанки, лицо покойника будто впитывает. Холодные резкие черты, как бы изнутри очерченные смертью, вдруг разгладились, в них затеплилась жизнь. Черный человечек по-клоунски выступил одной ногой вперед, едва ли не к изголовью лежащего, а руку с ладанкой стал отводить назад. Казалось, что тело человечка, резиново-растягивающееся в разные стороны, вот-вот разорвется. Между тем насколько ладанка отодвигалась, настолько покойник приподнимался. Он, несомненно, был связан с нею какими-то невидимыми узами и сейчас уже более походил на лунатика или загипнотизированного. Глазные яблоки будто у пробуждающегося вдруг шевельнулись — раз, другой... Он выпрямился. Верткий человечек с лампой подпрыгнул, щелкнул — открыл и тут же закрыл ладанку. Пламя лампы, остававшееся во время прыжка неподвижным, на манипуляцию с ладанкой отозвалось, точно на внезапный порыв ветра — возмущенно полыхнув, погасло. Воздух вокруг ладанки засветился и, расширяясь, стал заполнять горницу — возникли тени предметов. И только черный человечек враз еще больше почернел, съежился. Черты липа злобно исказились.
— Хоп-хоп!— резко вскричал он.
Крик ударил по перепонкам, будто двойное щелканье бича. Сидящий на кровати вздрогнул.
С усилием, словно слипшиеся, разнял руки. Открыл глаза. Деда точно обожгло током — дак ведь это он, Еремей Тимофеевич, двадцать пять годиков тому... Еще без усов, без бороды и справа на нем, как тогда: темно-синий милицейский пиджак, галифе, с красным кантиком по швам, и хромовые сапоги с длинными мягкими голенищами. Эту справу привез из района сын — носи, отец, сойдет за казацкое обмундирование. Ну-ну, он, Еремей Тимофеевич, еще работал тогда колхозным объездчиком, это обмундирование очень помогало ему наделять сельчан выгодными покосами. (Всколыхнувшаяся память всё это вмиг, будто пересохший сноп пшеницы, перемолотила.) Кому зерно, а кому солома, — ни к чему подумал дед и, увидев, как верткий человечек сунул в освободившиеся руки сидящего на кровати погасшую лампу, и она сейчас же, сама собой вспыхнула, замер. То есть всё в нем смешалось — сейчас тот, на кровати, приподнимет лампу и повернется к нему. Кто он есть, сидящий за столом, если он на кровати?!
Внезапно вспомнилось, как сын поехал в роддом наречь имена внукам. Уж как они со старухой его отговаривали. «Ничего, засветло вернусь)». Не вернулся. С полудня разыгралась метель, каких и зимой-то не было. Думали, где-нибудь на заезжем дворе заночевал. А среди ночи стук в дверь, они со старухой вскочили — никого. Потом в окно — три раза. Старуха не растерялась, криком спросила — к добру? Молчание. Неужто к худу? — одними губами молвила, а по стене, прямо возле электрошнура (тогда в их Шубенке электричество было), словно кто-то снаружи молотком: тук-тук — три раза. По проводке поднялся вверх и там постукал. По потолку за кухонный шкаф передвинулся и, чем ближе к печке, тем стук как бы тверже, вроде чего-то требует. Когда по стене спускаться стал — от печки кусок штукатурки отвалился, и сразу же стук помягчел — глуше, глуше, спустился к самой печи и затих. А на следующий день — весть, замерз Тимоша. На радостях пошел домой, а дороги пургой перемело, сбился... Когда хоронили, старуха плакала, убивалась, говорила, что тогда, ночью, это Тимоша приходил, звал на помощь... прощался с ними.
Почему именно это вспомнилось? Бог весть! Но вспомнившееся было настолько мучительно, что дед, застонав, закрыл лицо руками — Господи, что с ним, почему душа рвется на части?! Двойник, сидьмя сидящий на кровати, словно слепец, неуверенно приподнял лампу, и тут отставший звук двойного удара бича как бы резанул деда по глазам. Невольно защищаясь, он выкинул руки вперед и мгновением, будто в зеркале, увидел своего двойника, который так же, как и он, вскинулся, откинул лампу, и — всё исчезло, тьма раздавила их.
* * *
Тьма, уничтожившая всё вокруг, не только не причинила черному человечку никакого вреда — напротив, кажется, улучшила его самочувствие. Хлопоча возле деда, он носился по горнице так прытко, что можно было бы подумать, что он хлопочет не один, а по меньшей мере с целой бригадой. Причем не каких-то там шабашников, а столичных реаниматоров, у которых каждое движение расписано и, словно на непрерывном конвейере, доведено до автоматизма. Впрочем, черный человечек как раз и занимался реанимацией, правда, на свой лад и со своей целью. И всё же его старания как будто проходили даром, впустую. Он то надувался и подпрыгивал, будто воздушный шар, то с пыхтящим шипением уменьшался в объеме, превращался в морщинистую плёнку, которая вдруг прилепливалась к какому-нибудь предмету, словно ею некая полуснятая шкурка. Наконец, потеряв терпение, он вновь вскричал и, выхватив ладанку, стал наводить ее точно на лицо деда.
В плоском пространстве тьмы свет тотчас вскрыл свою объемность, дед приподнялся на руках и, открыв глаза, испугался — где он?! Вокруг была тьма, словно в бездонном колодце. И — никого!.. А вот только что мнилось: черный человечек подал ему какую-то важную грамоту, снабженную гербовыми печатями, в которой он, дед Доброть, назывался каким-то выкликаемым и отказывался от своей последней секунды жизни (передавал ее на вечное хранение подателю сей грамоты, достославному князю — принцу но-Иру). Дед хорошо запомнил, что взял грамоту, радуясь, что отныне не то что болеть — недомогать не будет. «Взамен смерти по-вашему вам даруется бессмертие по-нашему». Князь, словно в чернильницу, обмакнул перо в лампу — пламя змеисто лизнуло его, оставляя черный след на стекле, — и, пока передавал ручку деду, с ученического пера упало на столешницу несколько лиловых (показалось, кровавых) капель.
Дед отвернулся, чувствуя тошноту, ему опять вспомнился беспризорник, выпускающий дым через уши, которого он просил никогда не насиловать природного естества. И вдруг сам по своей воле дед подписывается под тем, что более всего ему же и противно.
Дед уронил ручку и — проснулся. Необъяснимая радость обладания грамотой сменилась вполне объяснимой тягостностью — это князь, это он что-то сотворил с ним и распоряжается его разумом. Неужто он, дед Доброть, поддался диавольскому соблазну пожить вспять, шиворот-навыворот? На что ему исправлять ошибки молодости, которые, может, одни только и напоминают сейчас, что она, молодость, была? На что ему вечная жизнь тела, если у него не будет души? Без души нет святости, а без святости человек — не человек ни любви, ни веры, ни надежды — искусственность.
Чтобы рассеять тягостность, уставился в пасхальный кулич — Полина Макарова принесла, поделилась святым хлебцем. Святость, она не в хлебе, а в том, насколько свят он в нашей душе.
Дед словно бы напитывался внутренним светом, защищаясь от тьмы, которая между тем (он это чувствовал) уже отступала, отодвигалась, освобождая горницу от сложных водянистых призраков, которые смешивались с тенями, растворялись, возвращая предметам прежние устойчивые очертания.
«Пасхальный кулич?! — Дед осторожно опустился на подушки. — Как там, в Евангелии?..»
«С наступлением же вечера подошли к Нему ученики и сказали: пустынно это место, и час уже поздний; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи. Иисус же сказал им: не нужно идти; дайте им вы поесть. Они говорят Ему: нет у нас здесь ничего: только пять хлебов и две рыбы. Он сказал: несите Мне их сюда. И велел народу возлечь на траве, взял эти пять хлебов и эти две рыбы, поднял глаза к небу, благословил и, преломив, дал ученикам хлебы, ученики же — народу. И ели все и насытились, и собрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. Евших же было мужчин около пяти тысяч, кроме женщин и детей)».
В конце двадцатых годов он, тогда Еремей Корж, один из ярых комсомольских активистов на селе, рьяно доказывал, что религия — опиум для народа. Что она рассчитана на простачков. Приводил в пример притчу о пяти хлебах как один из эпизодов чистого надувательства. Не понимал, что речь идет о хлебах небесных, о духовных хлебах. А в тридцать третьем году вернулся из армии — по всей Украине голод. В родной Ненадихе несколько полуживых мужиков и баб на лавочке возле сельсовета — ты, Ерёмушка?! Родная тетка с шестилетней соседской девочкой на руках — нет соседей, умерли. Да и его дом пуст, вчера бабку Маланью (его мать) еще живой свезли на погост, чтоб ввечеру не возвращаться могильщикам, у них и самих только-то и силов на один рейс в день, а телов, сколь их?.. Везли Маланью, увидела ее — Ганю, хлиба хочу. Обозналась... заговаривалась уже, а сама водянистая, в пролежнях вся. Ноне утром могильщики сказывали, что вовремя забрали Маланью, еще до погоста Господь Бог прибрал
Он как стоял, так и сел в дорожную пыль возле лавочки. Негнущимися пальцами кое-как развязал тощенький свой вещмешок — это, что ль, Ганя? Ганечка и есть, подтвердила тетка.
— Возьми, Ганю, — сказал Еремей, подавая ржаной сухарик. — Это уж от скудности нашей.
Ганя осторожно, даже как-то боязливо взяла сухарик. (Глаза большие, стоячие, будто у загнанного и смирившегося зверька.) Непонимающе долго смотрела на хлебец, уже было поднесла его ко рту. (Мужики и бабы отвлеченно отвернулись, вроде как бы заинтересовались солнышком, плывущим меж облаков.) И вдруг Ганя повернулась к тетке.
— На, баба, ешь.
Тетка смущенно улыбнулась.
— Ишь, доброть, а не ребенок!
Глубоко втянула воздух, вдыхая запах сухаря, — вот и поела она.
Ганя слезла с рук и пошла обходить мужиков и баб. И каждый шумно втягивал запах сухаря и благодарил дочу — вот и он, вот и она насытились.
Всех обошла Ганя, а когда к Еремею приблизилась, приоткрыв рот, тоже шумно вдохнула ржаной дух и вернула сухарь — она тоже наелась.
Странные улыбки теплились на лицах, никто не сокрушался, не вздыхал. Ровно и прямо глядели на Ганю, взбирающуюся на колени к тетке, на Еремея, сидящего в пыли с сухарем на ладони.
— Бери-бери, — сказала тетка, пользуясь его беспамятством. — И уходи куда-нибудь, Рассея большая, может, и выживешь. А мы и вправду насытились.
Одной рукой придерживая Ганю, сняла с груди ладанку с изображением Божьей Матери с Младенцем и тоже положила ему на ладонь. И опять ровные согревающие взгляды и ни вздоха, ни сожаления, а только какое-то радостное изумление, будто сосредоточившееся вокруг Ганиного личика, личика шестилетней старушки.
А ведь маманя не заговаривалась, подумал дед. Она Ганечку увидела, ее любовь человеческую, которая, наверняка, в его последней секунде тоже наличествует, а иначе с чего это вдруг гомункулусу так нетерпелось бы завладеть ею? Для любого грешника секунда пребывания в раю многого стоит, а уж для князя тьмы, исчадия ада, она и вовсе бесценна.
Хлеба небесные!.. Необычная здоровость в теле, какой в последнее время не то что больным — ходячим не чувствовал, — откуда она; может быть, плата за отступничество (получил взамен здоровости душевной)? Тогда почему, как прежде, он ощущает, что от пасхального кулича исходят как бы волны умиротворения и благости?
Стало быть, что-то высшее передалось ему через ржаной хлебец и сохранилось в нем. А этот бес, дед содрогнулся от внезапной догадки, с полумертвых соскабливает светоносную энергию жизни, попросту обирает еще теплые трупы, мародёрствует. И кто знает, может быть, этими светоносными крохами шантажирует невинные души, проделывает богомерзкие опыты, в которых злая сила господствует — тьма, надмеваясь, властвует над светом.
Деда пробил холодный пот — он подписывал какую-то гербовую бумагу, какую-то бесовскую выписку их протокола... Подписал ли?! У него нет никакой уверенности в том, что он не подпал под чары черного человечка. Однако же вот приходила Полина Макарова, поделилась святым хлебцем, и коли он, дед, чувствует живительные токи благости и умиротворения, исходящие от пасхального кулича, стало быть, душа его не стронута с места, и святая вера в добро сохранилась в нем?!
Дед приободрился — подписывал, но не подписал, он чист перед святым хлебцем, который единит его и с ушедшими, как его старуха, и теми, кто, подобно ему, а точнее, его внукам, пребывают здесь, на земле. Его картина мира — она ведь не сама по себе, она в ладу и с ним, и с внуками, и с верой отцов, в совпадении — а как же! Как у отцов и дедов его, так и у него — по сему. Умерли они, и он умрет, но не в прошлом пребывают ушедшие — в будущем, в раю, то есть являют собой духовную энергию жизни, которая весь одушевленный мир осеняет, потому как им, ныне живущим, еще только предстоит этот уход.
* * *
Уверенность деда, что он не подписал бесовской бумаги, как будто придала уверенности и всему окружающему. В горнице посветлело, тьмы как будто и не бывало. Для чего являлся черный человечек, в общем-то было понятно — искушал. И золотишко, и здоровье — все это настолько известно, что даже скучно. Однако в здоровом теле — здоровый дух. То-то и оно, что никакою духа — пустоцвет. Должно быть, нет ничего тягостней, чем вечность пустоцвета.
Мысли деда, точно седые белые волосы, сливающиеся с наволочкой, каким-то образом сомкнулись с солнечными лучами и, точно лучи, объяли весь белый свет. Он словно бы ни о чем не думал и в то же время весь был мысль — человек-пустоцвет, мир-пустоцвет, Бог... Он воздрогнул, не понимая, чего испугался? А потом улыбнулся — ишь, бес-пустоцвет просил секунду, в которую он, дед Доброть, войдет в рай. Вместо смерти по-вашему вам даруется вечная жизнь по-нашему.
Последний луч солнца ударил под верхний переплет окна, воздушно волнуясь, раздвинул потолочный предел, потом медленно стал тускнеть и, наконец, погас — иссяк небесный колодец.
Дед посмотрел в окно — солнечный закат подпалил облака, легкие сумерки казались розовыми и теплыми, точно вода на песчаной отмели. Ему явственно привиделись божественные поля, рощи, в которых сейчас пребывает его Матрёна Терентьевна и которые сейчас не без ее участия, наверное, накренились над Шубенкой, чтоб и припозднившегося внука уберечь от непогоды, и его, деда, напитать небесными хлебами — нет, его не одолеет разрушительная сила, тьма. Деда охватил благостный покой — Пасхальное воскресение никакая тьма не одолеет. Бросил взгляд на багровый отблеск, разлитый на подоконье, и в избытке чувств, сам не зная почему, — не произнес, а как бы возвестил миру:
— Христос воскресе!
Голос прозвучал, точнее прозвенел: молодо, звонко и еще как-то грозно, как оклик часового, требующего пароль. Дед, словно завороженный этим окликом, уже вознамерился отозваться — Воистину воскресе! Полные легкие набрал воздуху, и вдруг в носу так засвербило, так защекотало, что он напрочь позабыл о намерении. Кустистые брови деда вначале медленно приподнялись, потом резким скачком подпрыгнули почти на треть лба — дед чихнул. Да так смачно, аж в груди хрястнуло — плечи освобожденно расправились. Плечи расправились, а в глазах потемнело, веки отчего-то так неостановимо заморгали, что кроваво-красный отблеск заката, разлитый на подоконье, стал казаться ему кроваво-красным отблеском, отбрасываемым мигающим пламенем керосиновой лампы, дергающимся, будто от сквозняка. Ощущение трепещущего пламени было настолько реальным, что прежде всего подумалось: дак что же это... шибки стекол вынуты, что ль? И вот, как только он подумал о вынутых стеклах, еще о черном человечке в мыслях и намека не было, раздался знакомый, скрипучий, как ржавые двери, голос, бесцеремонно вскакивающий в уши сразу с обеих сторон.
— Да полноте, дедушка, беспокоиться о стеклах, в порядке стекла. Вас прям-таки не поймешь, то вы жаждете бессмертия, а то, не выслушав человека, который вас, можно сказать, из рук смерти вызволил, закатываете перед ним ну не то чтобы истерики, а всякие там обмороки. И это при том, что вы подписали договор и совершенно здоровы. Я полагаю, дедушка, что вы порядочный симулянт. И не надо слов, берите пример с ваших внуков. Шурка теперь сообщается со всем что ни есть вокруг посредством чистой мысли и даже, более того, чувств, заключающих в себе любую нужную мысль. А Николай, понимаете, пристрастился к фантазиям, которые имеет обыкновение записывать в мою фиолетовую тетрадь.
Черный человечек выхватил откуда-то из-под полы толстую общую тетрадь, действительно с фиолетовой обложкой, и, перегнув ее, выпустил большим пальцем веер исписанных страниц.
— Он записывает, а потом мы сообща трансформируем их, превращаем в реальность. Не все, конечно, по выбору, особенно я люблю, когда прямое искривляется, а искривленное выпрямляется. Знаете, чувствуешь себя творцом, когда преодолеваешь сопротивление материала.
Он хлопнул тетрадью по выкинутой вверх ладошке и опять сунул ее под полу, которая вдруг вытянулась и утонула в какой-то квадратной дыре, наподобие колодезной.
— Ну вот, вы снова норовите ускользнуть в обморочную прострацию. Нет-нет, так не пойдет! Так мы с вами не договаривались, а нам просто необходимо в наших же интересах договориться. Прежде всего не мучайте себя всякими домыслами о вечном человеке-пустоцвете. Бог вечен, а человек создан по Божьему подобию, стало быть, надо изменить направление мысли: раз вечен — уже не пустоцвет, пустоцвет не может быть вечным. Глубже, глубже надо мыслить, Еремей Тимофеевич!
Речь но-Ира каким-то непонятным образом совпадала с морганием. Вначе дед как бы примигивал в словах каждую буковку. Затем частота примигиваний сократилась — совпадала с ударными слогами. Потом он уже отмечал только знаки препинания. И, наконец, словно выбрав положенный запас, моргание прекратилось.
Во всё это время, будто в просветах вагонов мчавшегося поезда в мозгу отпечатывались странные картины. Кроваво-красный отблеск на подоконье собрался в змеисто прыгающее пламя лампы. Темень сгустилась, и посреди горницы резко выступила, будто вырезанная из черного дерева, фигурка черного человечка. Фигурка казалась сросшейся с тенью, глыба которой, косо изломившись, словно бы подпирала потолок. Причем если пламя лампы во время примигивания приближалось к человечку, то тень его непременно отдалялась и уменьшалась. В какой-то момент она вовсе исчезла. Чувствовалось, что в трепещущем свете лампы в горнице происходит какая-то неуловимая перестановка. В самом деле, когда мигание пламени унялось (а с ним и дерганье век), дед увидел, что окно, выходящее на дорогу, передвинулось, скрылось за широким буфетом — на его прежнем месте обозначилось черное, закопченное устье печи, в котором существо, величающее себя достославным князем, словно расторопный хозяин, устанавливало заслонку.
— Да, знаете, я по природе своей реформатор, можно сказать, реформатор-гуманист, лично для меня приоритет общечеловеческого над классовым всегда был бесспорным. Классовый рай — извините, очень мрачная пропаганда, но... не люблю сквозняков, тут я за железный занавес печных заслонок, — сбивая золу, деловито ударил рука об руку. — Не к месту будет сказано, бывает, так чихнешь, что не надо никаких реформ, будто взорвешься — на кусочки и во все стороны. Впрочем, ломать — не строить.
Теперь кухонного стола вообще не было, а за стулом, на который легко и ловко уселся но-Ир, образовалось изрядное пустое пространство вплоть до буфета, стоящего почему-то в углу. Так как пламя лампы не отражалось в его стеклах, а лампа, хотя и на расстоянии, помещалась напротив окна, находящегося у изголовья деда, — он повернулся к окну — в нем-то как, есть отражение? Но и этого -окна не было — обычная глухая стена.
Дед почувствовал, что во всяком предмете, который он видит, то есть в самом взгляде, которым охватывает предмет, находится он сам, всей своей плотью. И еще он почувствовал в себе свойство входить и погружаться в неизреченную суть предмета так, как если бы и он сам был предметом. Вот буфет — кухонный старшина, словно на своем теле дед ощущает все его царапины и вмятины. От кого только ему не доставалось: и от Матрёны, и от самого Еремея Тимофеевича, и особливо от внуков, пристрастившихся было вбивать и вытаскивать из него гвозди. Он даже не старшина, кухонный генерал. И стол, и лавка, и даже кровать, на которой лежит дед, — все под его началом.
Деду вспомнилось, как заморенный голодом, он по бумажке комэска в числе первых воинов-переселеннев прибыл в Шубенку. Поначалу всем поездом жили в клубе коммуны имени Ворошилова. Потом Еремею Тимофеевичу как бывшему красноармейцу, женившемуся на Матрёне, такой же, как и он сам, неимущей коммунарке, выделили избу и послали на курсы трактористов. С курсов пришел — на «Форзон» посадили. В столовой по звону рельса и завтракали, и обедали, и ужинали. Они с Матрёной завсегда питались за столом передовиков. Когда коммуну начали упразднять, пришел к ним ейный председатель, крупный, неразговорчивый, но глубоко душевный мужик. Хватились посадить гостя — не на что. Ни табуретки, ни стола, даже кровати не было. Да и то, они с Матрёной с утра до вечера в поле, Тимошка круглосуточно в детяслях, изба есть, и слаба Богу!.. Председателю очень по сердцу пришлось, что стены в избе выбелены, а полы выскоблены. Похвалил Матрёну — хорошая хозяйка. Мебель из орехового дерева будет — завтра же столяра пришлет. Отмерил от печи свой саженный шаг — здесь стоять буфету.
Дед внезапно всхлипнул — пусть им с Матрёной буфет напоминает, что они были и есть передовики славной Ворошиловской коммуны. А потом, в колхозе уже, как недород, так сразу и фининспектор в избе, ходит, описывает имущество в счет несданного продналога. И всегда первым делом брался на карандаш буфет. Бывало, уж сколь натерпятся всего, а буфет вызволят. Да рази ж это только буфет теперь, чтобы передвигать его какому-то человечку с маленькой буквы?
— Ну. уж, ну уж... вы снова и снова норовите ускользнуть в обморочную прострацию, и все только потому, что вам, дедушка, не хочется вставать с кровати. Да-да, вся эта филиппика — порожденье лени! А если бы дедушка заглянул за буфет, то он бы убедился, что окно за перегородкой, а за перегородкой стоит еще один, точно такой же буфет, но совершенно новый, без единой царапинки!
Черный человечек скрипуче хохотнул — он сочувствует дедушке, пусть остается на кровати: демократия, насильно мил не будешь, нельзя к добру гнать палкой.
Всё собрал, настоящий районный лектор, надергал по строчке из всех газет и, пожалуйста, уже воспитывает, неприязненно подумал дед. Выхватывает из окружающего только то, что нужно ему в текущий момент, а завтра — хоть трава не расти! Как говорится — ловкость рук и никакого мошенничества.
— Нет-нет, ни в коем случае! Зачем ему, достославному князю, ловкость рук, если реформы обеспечиваются исключительно энергией снизу, то есть исключительно энергией рынка. Все, что не подлежит реформированию, — в печь, за железную заслонку. Что не сгнило — пусть сгорит. Дым — вещество целесообразное, ведь это из него произрастают хлеба небесные, а у некоторых — хляби. Побольше дыма, Еремей Тимофеевич, дым глаза не застит. Надо раскрутить маховик и не забывать о правиле буравчика — гайки закручиваются вправо. Лучшее средство для всех реформ и от всех реформ — революционный вихрь. Он, принц но-Ир, употребит последнюю секундочку Еремея Тимофеевича на высшее благо — ускорение реформ. А сейчас просит посмотреть, только посмотреть некоторые опыты, которые демонстрирует сугубо доверенным лицам, потому что эти опыты требуют полного взаимопонимания, если хотите, родственности душ.
Деду показалось, что князь тьмы заговаривается, то есть под воздействием какой-то внешней силы вынужден почти ежесекундно менять направление своей мысли. И все же деда укололо, что гомункулус записал его в родственные души, но возразить не успел. Верткое существо вместе с оседланным стулом, словно наэлектризовываясь, мелко-мелко затряслось, запрыгало, продвигаясь по замкнутому кругу. Один, другой, третий... Ускоряющееся подпрыгивание, похожее на вибрацию и поступательное движение по кругу, нарастало с такой быстротой, что вскоре очертания человечка и стула слились в одну слошную массу — напоминали шину трактора.
Дед привстал на подушках: вот бес, свою спину догнал — неужто сквозь себя, как сквозь игольное ушко, проскочит?!
Неожиданно «шина» спружинила с боку на бок и, потеряв четкие очертания, зависла под потолком Теперь она походила на волосяной клубок. Клубок неистово вращался, по нему бежали темно-коричневые пряди, или полосы, очень схожие по цвету со стулом, на котором сидел человечек. Внезапно клубок завыл, точно ветер в трубе. В тон ему стали отзываться предметы, находящиеся в горнице, которые ни с того ни с сего тоже начали вибрировать и медленно, но настойчиво подвигаться к кругу, по которому вот только что носился князь тьмы.
Дед ощутил, что кровать под ним тоже ожила, заныла, натужно дребезжа в пружинах. Ковровая дорожка, лежащая возле входной двери, вдруг встрепенулась, приподнялась посередине и, хлопнув концами, будто крыльями, взлетела и тотчас смешалась с клубком — пропала. Дед вцепился в стеганое одеяло, которое одним краем тоже уже приподнялось, но в этот миг клубок грянул на пол и посреди горницы, словно по волшебству, образовалась черная дымящая воронка. Черный человечек сидел перед нею, словно рыбак перед прорубью. Чуть наклонившись вперед, он одной рукой машинально нащупывал ладанку на груди, а другую простёр над воронкой, точно удерживал вздымающийся вулкан. Он был настолько поглощен происходящим, что и деда потянуло взглянуть...
Подобрав одеяло, Еремей Тимофеевич свесился с кровати, из воронки дохнуло холодом, хотя на черных складках одежды человечка вспыхивали отблески огня, как бы вырывающиеся из печи. Дед вытянул шею и тут же позабыл обо всём.
Далеко внизу, кажется, в самой сердцевине Земли, а вернее, что еще дальше, уже за ее пределами, он увидел безмерное пространство, заполненное клубами слоисто-текущего дыма. Дым свивался в спираль, местами вспухал, пенился. Клубы многоэтажно прорастали в высокогорные цепи. Разрываемые молниями цепи рушились, распадались, и тогда еще глубже обозначались в пустоте новые горные хребты, за которыми угадывались другие, свивающиеся в спираль, клубы дыма.
Что это?! Дед хотел отпрянуть, но с ужасом почувствовал, что сползает в воронку. Он раскинул руки, но и края воронки раздвинулись. Знакомый скрежещущий хохоток князя тьмы, раздавшийся за спиной деда, будто отдельно живой, упруго резвясь, пробежал по его позвонкам, уже совсем помогая ему съехать в бездну.
— Наша печь, энергетический котел, котел чистой энергии — вечность. В любом деле надо плясать от печки — не так ли?! Входите, Еремей Тимофеевич, располагайтесь...
— Не-е-ет! — простонал дед и, страшась догадки, что перед ним никакой не котел вечной энергии, а самый настоящий ад — геенна огненная, неожиданно громко, с чувством пропел:
— Христо-ос воскре-есе!
Опасаясь, что, как и прежде, бес но-Ир собьет его, не даст утвердить «Воистину воскресе!», машинально приложил руку к груди — ладанка! Как же он позабыл о ней?! В горькую минуту скорби родная тетка подарила ее. «Бери-бери... А мы и вправду насытились».
Дед увидел себя сидящим в пыли. Приветливые лица сельчан, изумленно глядящих, как бы из далекого далека, то на сухарь на его ладони, то на Ганечку, взбирающуюся к тетке на колени. Хлеба небесные! Он почувствовал уверенность, что с этой ладанкой ему и ад не страшен — резко изменил направление мысли, ничуть не догадываясь, что решил одолеть нечистую силу ее же оружием.
— Слава КПСС, слава КПСС!
Кто подсказал, кто надоумил — дед не ведал. Но то, что голос на здравице в честь коммунистической партии не был прерван и прозвучал с необходимой твердостью, укрепило его, что он нашел отзыв не только равнозначный библейскому, но, может быть, в том, что сейчас бесконечно дорого ему, дажее более превосходящий. Как бы там ни было, но какая-то спасительная сила тотчас отбросила его на подушки, а но-Ира спихнула в воронку, которая тут же затянулась и пропала, будто ее и не было.
— Слава КПСС, слава КПСС!... — еще несколько раз, для вящей убедительности, прошептал дед и насторожился (ему послышался глухой стук копыт — никак Шурка!).
Он увидел на стуле, придвинутом едва ли не к изголовью, на котором вот только что восседал диавол, белый огнисто-лучистый кружок — ладанку, которую тот, очевидно, не смог унести с собой из-за своей раздерганности. Дед осторожно взял ее: так и есть — Божья Матерь с Младенцем. Может быть, виною игра света на старинном серебре или слезящиеся глаза деда (а вернее всего, и ни то, и ни другое), но он вдруг явственно увидел не Божию Матерь с Иисусом, а родную тетку с Ганечкой на руках.
Сердце мучительно сжалось. Такое под силу только Ему, Господу нашему, убежденно подумал дед, и тут же, словно бы в подтверждение своей мысли, услышал радостное лошадиное ржание и стук копыт, донесшихся с улицы. Он опустился на подушки, почти физически ощущая, как с приближением знакомого стука копыт чужой незнакомый, мертвым разрывом отзывающийся в сердце, всё более и более отдалялся и, наконец, полностью вытесненный — сгас, растаял, как досадный мираж, как галлюцинация расстроенного воображения.
И вот как только чужой незнакомый стук копыт сгас, растаял, дед заметил, что в горнице посветлело. Посветлело от таинственного серебрящегося света, истекающего от ладанки в его руке.
Дед привстал на локтях, внимательно огляделся — буфет, стул, стол; на столе накрытый сложенным полотенцем пасхальный кулич, чуть подальше, почти на самом краю стола, лампа с целым и даже как будто протертым до прозрачного блеска стеклом. Все на месте. Словно и не было никаких перестановок, словно все они — один плод фантазии. Однако нет, именно в том, что как будто ничего не было, дед как раз более всего улавливал: почему всё так было, как будто ничего не было.
Пора, пора, наверное, Еремею Тимофеевичу в порядок себя приводить и помаленьку собираться на вечный покой. Уже и диавол являлся, искушал, — дед хмыкнул ничтожности диавольских соблазнов. — Точь-в-точь районный лектор: лепешки с парным молочком, взбитая перина и даже жизнь вечная, но без души, а стало быть, и без будущего.
Он внимательно посмотрел на крышку подпола и строго-строго погрозил — смотри у меня!.. Поднес ладанку к губам и, совершая крестное знамение, трижды поцеловав ее, с чувством пропел:
— Христо-ос воскре-есе!
И уже не опасаясь, что кто-то может помешать ему завершить здравицу в честь Господа нашего Иисуса Христа, с достоинством выждал паузу... И тут отворилась дверь — в горницу вошел Шурка. Точнее, вбежал, потому что в сенях, стягивая плащ, услышал деда.
— Воистину воскре-есе! — прямо с порога возгласил он, и они с дедом обрадованно засмеялись и с чувством почеломкались.
Потом уже на крыльце (выполз с Шуркиной помощью) дед сказал, что пора, пора ему собираться на вечный покой, на вечные пажити. И вдруг приказал:
— Зови, зови Николку, а то ненароком хватит кондрашка и не прощусь.
Шурка хотел было возразить деду, но не возразил, тоже сел на ступеньку крыльца. Так они и сидели, взглядывая то в пространство двора, где громко фыркал, теребя сено, мерин, то в звездное небо, где загадочная синяя звезда уже заметно поднялась над огородами и потому как будто приблизилась. В сиянии ночи исподнее белье деда светилось, словно облитое луной, а Шуркин бушлат, накинутый на плечи, мерцал росными каплями. Они молчали, они молчали о быстротечности человеческой жизни, а от земли исходил отчетливый шум весеннего пробуждения...

